| Виртуальный Владимир » Город Владимир » Путешествие по древним городам Владимирской земли » Юрьев-Польской » По памятникам города » Георгиевский собор » резное убранство |
 ...
... история
история архитектура
архитектура резное убранство
резное убранство По сохранившимся частям стен собора и в особенности главного северного фасада можно составить представление о первоначальной системе резного убранства собора. В отличие от владимирского Димитриевского собора здесь вся поверхность фасадов покрыта резьбой. Она оплетает своим узором не только плоскости стен, но и все архитектурные детали. Колончатый пояс, исполненный в той же системе, что и пояс Суздальского собора, то есть углубленный в стену, приобрел здесь чисто декоративный характер — за ним внутри нет хор, над ним стена не утоньшается. Резьба как бы «обтягивает» архитектурные детали, так что они порой теряют свою конструктивную четкость. Так, капители порталов превращаются как бы в высеченный из целого камня фигурный блок, сплошь покрытый растительным орнаментом. Капители пилястр также отходят от изящной формы капителей XII века; их плоские фасы украшены великолепно вырезанными ликами дев и воинов (илл. 115). Мастера Святослава идут дальше строителей Суздальского собора, решаясь прервать ствол угловых полуколонок своеобразным венком из человеческих головок, изваянных уже не в рельефе, но в круглой объемной манере. Пышность и обилие резьбы усиливают ощущение торжественной неподвижности и тяжести здания, его драгоценной материальности. Видимо, это чувствовали и подчеркнули и сами строители собора. Его цокольный профиль, в отличие от профилей XII века, приобретает напряженное очертание, его элементы сильнее выступают вперед, как бы выдавленные грузом отягченной пышным убором стены.
По сохранившимся частям стен собора и в особенности главного северного фасада можно составить представление о первоначальной системе резного убранства собора. В отличие от владимирского Димитриевского собора здесь вся поверхность фасадов покрыта резьбой. Она оплетает своим узором не только плоскости стен, но и все архитектурные детали. Колончатый пояс, исполненный в той же системе, что и пояс Суздальского собора, то есть углубленный в стену, приобрел здесь чисто декоративный характер — за ним внутри нет хор, над ним стена не утоньшается. Резьба как бы «обтягивает» архитектурные детали, так что они порой теряют свою конструктивную четкость. Так, капители порталов превращаются как бы в высеченный из целого камня фигурный блок, сплошь покрытый растительным орнаментом. Капители пилястр также отходят от изящной формы капителей XII века; их плоские фасы украшены великолепно вырезанными ликами дев и воинов (илл. 115). Мастера Святослава идут дальше строителей Суздальского собора, решаясь прервать ствол угловых полуколонок своеобразным венком из человеческих головок, изваянных уже не в рельефе, но в круглой объемной манере. Пышность и обилие резьбы усиливают ощущение торжественной неподвижности и тяжести здания, его драгоценной материальности. Видимо, это чувствовали и подчеркнули и сами строители собора. Его цокольный профиль, в отличие от профилей XII века, приобретает напряженное очертание, его элементы сильнее выступают вперед, как бы выдавленные грузом отягченной пышным убором стены.
 Присмотримся, однако, ближе к самой резьбе. Существенным техническим и художественным новшеством декоративной системы Георгиевского собора является соединение отдельных изображений и фигур, выполненных в высоком рельефе, с тончайшим ковровым орнаментом, обтягивающим и свободные плоскости стен и фон вокруг горельефов (илл. 117). О характере этой системы позволяют судить фасады северного и южного притворов, где резные камни, исполненные в высоком рельефе, сочетаются с побегами плоскостного растительного орнамента. Та же система сочетания коврового узора с горельефными фигурами святых, зверей и чудищ распространялась и на второй ярус фасадов над поясом.
Присмотримся, однако, ближе к самой резьбе. Существенным техническим и художественным новшеством декоративной системы Георгиевского собора является соединение отдельных изображений и фигур, выполненных в высоком рельефе, с тончайшим ковровым орнаментом, обтягивающим и свободные плоскости стен и фон вокруг горельефов (илл. 117). О характере этой системы позволяют судить фасады северного и южного притворов, где резные камни, исполненные в высоком рельефе, сочетаются с побегами плоскостного растительного орнамента. Та же система сочетания коврового узора с горельефными фигурами святых, зверей и чудищ распространялась и на второй ярус фасадов над поясом.
Это сочетание двух манер резьбы на больших плоскостях фасадов было технически весьма сложным. Сначала они украшались горельефными изображениями, которые вытесывались на отдельных камнях на строительной площадке и затем вводились в кладку стены. На этом первом этапе убор здания напоминал церковь Покрова на Нерли: рельефы выступали на гладкой плоскости стены. Затем начиналась резьба коврового узора, которая велась по уже готовой стене, переходя на ее архитектурные детали и оплетая горельефные скульптуры. Эта работа требовала от резчиков безупречной точности глаза и руки, безошибочного движения резца, так как малейшая погрешность была бы непоправимой. Тончайший узор наносился сперва одним прочерченным контуром: это хорошо видно на южной стене западного притвора, убор которой остался незаконченным. Сочетание этих двух систем резной декорации требовало предварительного детального и точного ее проекта, который заранее учитывал размещение резных камней, чтобы связанный с ними узор мог нормально развертывать свои элементы при подходе к горельефам.

 Чтобы оценить всю техническую сложность и художественное мастерство орнаментального убора Георгиевского собора, следует рассмотреть его северный, лучше сохранившийся фасад (илл. 118). Он был главной, лицевой стороной здания, обращенной к городской площади. Поэтому над северным порталом было помещено изображение св. Георгия, которому был посвящен храм (илл. 119). Над зоной коврового узора идет аркатурно-колончатый пояс (илл. 121). На нем, как и на поясе Суздальского собора, сказалось сильное влияние деревянной архитектуры. Его цилиндрические колонки коренасты (при вышине 67 см их толщина равна 14 см) и еще больше напоминают точеные резные деревянные балясины. Если фигуры в колончатом поясе Димитриевского собора были малы и не выделялись среди остальных рельефов, то здесь крупные рельефы с фигурами святых сделаны на отдельных тонких плитах и помещены в пролетах пояса, как большие резные иконы в киотах; они занимают все поле меж колонок, уподобляясь в этом смысле статуям готических соборов, но оставаясь вполне плоскостными. При этом стволы колонок, наполовину прикрытые плитами, превращаются почти в полуколонки, напоминая позднейшие кирпичные аркатурно-колончатые пояса XV—XVI веков, какие мы видели, например, на стенах соборов Покровского и Евфимдиева монастырей в Суздале. Особенно примечательно декоративное перерождение самой аркатуры пояса: арочки приобрели не только килевидную, но и трехлопастную форму, став также своего рода «киотцами», занятыми растительной резьбой. Орнамент оплетает и полувал над аркатурой, превращающейся лишь в наиболее крупный и четкий элемент общей орнаментально-декоративной системы.
Чтобы оценить всю техническую сложность и художественное мастерство орнаментального убора Георгиевского собора, следует рассмотреть его северный, лучше сохранившийся фасад (илл. 118). Он был главной, лицевой стороной здания, обращенной к городской площади. Поэтому над северным порталом было помещено изображение св. Георгия, которому был посвящен храм (илл. 119). Над зоной коврового узора идет аркатурно-колончатый пояс (илл. 121). На нем, как и на поясе Суздальского собора, сказалось сильное влияние деревянной архитектуры. Его цилиндрические колонки коренасты (при вышине 67 см их толщина равна 14 см) и еще больше напоминают точеные резные деревянные балясины. Если фигуры в колончатом поясе Димитриевского собора были малы и не выделялись среди остальных рельефов, то здесь крупные рельефы с фигурами святых сделаны на отдельных тонких плитах и помещены в пролетах пояса, как большие резные иконы в киотах; они занимают все поле меж колонок, уподобляясь в этом смысле статуям готических соборов, но оставаясь вполне плоскостными. При этом стволы колонок, наполовину прикрытые плитами, превращаются почти в полуколонки, напоминая позднейшие кирпичные аркатурно-колончатые пояса XV—XVI веков, какие мы видели, например, на стенах соборов Покровского и Евфимдиева монастырей в Суздале. Особенно примечательно декоративное перерождение самой аркатуры пояса: арочки приобрели не только килевидную, но и трехлопастную форму, став также своего рода «киотцами», занятыми растительной резьбой. Орнамент оплетает и полувал над аркатурой, превращающейся лишь в наиболее крупный и четкий элемент общей орнаментально-декоративной системы.
 Казалось бы, что с этим необычайно развившимся «узорочьем» убранства здания его идейный смысл затемнится и отступит на второй план, что наметилось еще в Димитриевском соборе. Однако в декоративной системе Георгиевского собора мы видим обратное. Среди причудливой мозаики рельефов в переложенных В. Д. Ермолиным частях фасадов есть отдельные камни, являющиеся фрагментами больших сюжетных композиций. Часть из них находится на стенах собора, часть — в коллекции резьбы внутри его. Так, на южном фасаде сохранились отдельные рельефы, составлявшие в целом как бы огромную резную икону Преображения (илл. 123). В западной трети той же стены, слева от окна, есть камни от таких же сборных резных композиций — «Троица» и «Семь спящих отроков эфесских» (илл. 116). К числу этих больших композиций принадлежат также «Распятие» (так называемый. «Святославов крест»), «Вознесение», «Даниил во рву львином» и знакомые нам по памятникам Владимира — «Три отрока в пещи огненной» и «Вознесение Александра Македонского». Как и во владимирских соборах, эти большие сюжетные композиции занимали поля закомар.
Казалось бы, что с этим необычайно развившимся «узорочьем» убранства здания его идейный смысл затемнится и отступит на второй план, что наметилось еще в Димитриевском соборе. Однако в декоративной системе Георгиевского собора мы видим обратное. Среди причудливой мозаики рельефов в переложенных В. Д. Ермолиным частях фасадов есть отдельные камни, являющиеся фрагментами больших сюжетных композиций. Часть из них находится на стенах собора, часть — в коллекции резьбы внутри его. Так, на южном фасаде сохранились отдельные рельефы, составлявшие в целом как бы огромную резную икону Преображения (илл. 123). В западной трети той же стены, слева от окна, есть камни от таких же сборных резных композиций — «Троица» и «Семь спящих отроков эфесских» (илл. 116). К числу этих больших композиций принадлежат также «Распятие» (так называемый. «Святославов крест»), «Вознесение», «Даниил во рву львином» и знакомые нам по памятникам Владимира — «Три отрока в пещи огненной» и «Вознесение Александра Македонского». Как и во владимирских соборах, эти большие сюжетные композиции занимали поля закомар.
Тщательное и всестороннее изучение Г. К. Вагнером архитектуры и резьбы собора позволило с большой точностью восстановить первоначальную систему скульптурного убранства здания в целом и его идейный замысел.
На главном, северном фасаде (илл. 118) помещались: в средней закомаре «Распятие» с надписью Святослава и двумя парными драконами у его подножия, а в боковых закомарах — в левой «Три отрока в пещи огненной» и в правой — «Даниил во рву львином». Распятие связывалось с представлением о кресте как важнейшем орудии борьбы с неверными и защиты княжеской власти — он понимался как «сохраньник всей вселенной, царем держава, верным утверждение». Мы видели белокаменный крест XII века с подобной надписью в Боголюбове; фрагмент крестообразной надписи конца XII века есть в кладке южной стены Суздальского собора. Вспомним, что Святослав совершил в 1220 году победоносный поход на волжских болгар. Распятие было не только символом покровительства, но и памятником этой победы — «победным крестом». Мифы о трех отроках и Данииле во рву львином говорили о покровительстве бога верным ему людям. В «Песне о Роланде» Карл Великий, обращаясь к богу, говорит:
«От страшных мук избавил Даниила,
Его от львов свирепых ты избавил,
Из пещи ты трех отроков исторг!
Теперь к тебе о милости взываю:
О, дай за смерть Роланда отомстить…»
Таким образом, идея патроната небесных сил объединяла главные композиции северного фасада. Эта же идея была ясно выражена в резном уборе трехлопастного постамента под главой, где трижды изображен благословляющий Спас в окружении небесных стражей — архангелов и херувимов. По сторонам окон фасада размещался ряд стоящих фигур пророков и ниже, в основании окон, — поясных изображений мучеников и целителей. В поясе северного фасада видное место занимали фигуры святых патронов владимирской княжеской династии. Эта «шеренга героев» раскрывала основную идею резного убора: небесные силы покровительствовали именно владимирским князьям и их «богоизбранной» Владимирской земле. Но очень важно, что среди княжеских покровителей не было изображения патрона сына Всеволода III князя Константина ростовского, едва не сгубившего силу княжества в кровавой битве с братьями на Липицком поле под Юрьевом. Небесный патронат не распространялся на раскольников «единачества» Всеволодовичей, он охранял их сплоченность. Особенно подчеркнута и персонифицирована эта концепция в уборе фасада северного притвора. Здесь над порталом горделиво красуется большой рельеф патрона первого строителя храма Юрия Долгорукого святого Георгия в патрицианских одеждах и воинских доспехах, опирающегося на высокое копье и миндалевидный щит с изображением эмблемы владимирской династии — вздыбленного барса (илл.120). Над Георгием, в острие килевидной закомары, помещалась мужская личина, в которой видят портрет второго строителя храма и победителя болгар князя Святослава юрьево-польского (илл. 120). По сторонам архивольта портала, как бы подчеркивая особое благоволение неба Владимирской земле, дважды помещены изображения Христа. Около одного из них сохранились буквы вертикальной надписи: «БАКУ», в которой видят автограф главного скульптора собора Бакуна (Аввакума). Закомару княжеской усыпальницы — Троицкого придела — украшало изображение ветхозаветной Троицы. Система и замысел резного убора северного фасада служат ключом к реконструкциям остальных фасадов собора.

 Вторым по значению был западный фасад храма с его широким и высоким двухэтажным притвором, вмещавшим княжескую ложу (илл. 122). С этой стороны особенно выразительна могучая ярусность композиции здания и органичность широкого постамента под его главой. Вспоминая воздушную и легкую ступенчатость композиции Покрова на Нерли в окружении ажурной аркады галерей и воскрешая в своем воображении Георгиевский собор, мы ясно ощущаем все отличие его образа, исполненного державного спокойствия и напряженной силы. В этом смысле Георгиевский собор сходен с царственностью Димитриевского собора Всеволода III . Западный фасад собора был наиболее нагружен скульптурой, здесь особенно сгущенно звучит тот же лейтмотив величия и богохранимости Владимирской державы Мономашичей. В архивольте портала в круглых медальонах вырезан деисус. Он был повторен и выше, в пяти теперь заложенных кирпичом нишах . Между ним и колончатым поясом резчики протянули нарядную и сочную гирлянду с львиными и человечьими личинами. И снова в одиннадцати пролетах меж колонок высились фигуры третьего, главного деисусного чина, который продолжался и в аркадах боковых фасадов, где к Христу западного притвора как бы направлялись процессии святых. Это была самая грандиозная композиция деисуса в древнерусском искусстве. Выше, в уровне пят свода второго этажа, шел фриз целителей и мучеников в круглых медальонах. К вершине тройного окна, освещавшего княжескую ложу, с обеих сторон направлялись фигуры пророков во главе с библейскими премудрыми царями Давидом и Соломоном. Над окном высилась крупная фигура богоматери Оранты с предстоящими воинами. Можно думать, что Оранта не только воплощала здесь общую идею защиты «царицей небесной» владимирских «самовластцев», то есть идею владимирского культа Покрова богоматери. Видимо, она имела и более широкий смысл. Изображенная над окном княжеской ложи Оранта напоминала грандиозную мозаичную Оранту киевской Софии — «Нерушимую стену», покровительницу Киева, как бы перенесшую свой патронат с юга на владимирский север и лично на князя Святослава юрьевского: Владимирская земля представлялась единственной наследницей Киева. Южную закомару западного фасада собора занимал семифигурный овальный венок композиции «Семь спящих отроков эфесских», также говоривший о небесном патронате над верными богу людьми. Магическая сила этого сюжета, как «оберега», была столь популярна, что «Семь отроков» изображались на амулетах-змеевиках. Наконец, в центральной закомаре западного фасада собора строители поместили крупную композицию «Преображение» (илл. 123), символизировавшую силу княжеской власти, столь грандиозно оснащенной в резном уборе собора заступничеством и покровительством небесных сил.
Вторым по значению был западный фасад храма с его широким и высоким двухэтажным притвором, вмещавшим княжескую ложу (илл. 122). С этой стороны особенно выразительна могучая ярусность композиции здания и органичность широкого постамента под его главой. Вспоминая воздушную и легкую ступенчатость композиции Покрова на Нерли в окружении ажурной аркады галерей и воскрешая в своем воображении Георгиевский собор, мы ясно ощущаем все отличие его образа, исполненного державного спокойствия и напряженной силы. В этом смысле Георгиевский собор сходен с царственностью Димитриевского собора Всеволода III . Западный фасад собора был наиболее нагружен скульптурой, здесь особенно сгущенно звучит тот же лейтмотив величия и богохранимости Владимирской державы Мономашичей. В архивольте портала в круглых медальонах вырезан деисус. Он был повторен и выше, в пяти теперь заложенных кирпичом нишах . Между ним и колончатым поясом резчики протянули нарядную и сочную гирлянду с львиными и человечьими личинами. И снова в одиннадцати пролетах меж колонок высились фигуры третьего, главного деисусного чина, который продолжался и в аркадах боковых фасадов, где к Христу западного притвора как бы направлялись процессии святых. Это была самая грандиозная композиция деисуса в древнерусском искусстве. Выше, в уровне пят свода второго этажа, шел фриз целителей и мучеников в круглых медальонах. К вершине тройного окна, освещавшего княжескую ложу, с обеих сторон направлялись фигуры пророков во главе с библейскими премудрыми царями Давидом и Соломоном. Над окном высилась крупная фигура богоматери Оранты с предстоящими воинами. Можно думать, что Оранта не только воплощала здесь общую идею защиты «царицей небесной» владимирских «самовластцев», то есть идею владимирского культа Покрова богоматери. Видимо, она имела и более широкий смысл. Изображенная над окном княжеской ложи Оранта напоминала грандиозную мозаичную Оранту киевской Софии — «Нерушимую стену», покровительницу Киева, как бы перенесшую свой патронат с юга на владимирский север и лично на князя Святослава юрьевского: Владимирская земля представлялась единственной наследницей Киева. Южную закомару западного фасада собора занимал семифигурный овальный венок композиции «Семь спящих отроков эфесских», также говоривший о небесном патронате над верными богу людьми. Магическая сила этого сюжета, как «оберега», была столь популярна, что «Семь отроков» изображались на амулетах-змеевиках. Наконец, в центральной закомаре западного фасада собора строители поместили крупную композицию «Преображение» (илл. 123), символизировавшую силу княжеской власти, столь грандиозно оснащенной в резном уборе собора заступничеством и покровительством небесных сил.
Южный фасад собора может быть восстановлен лишь фрагментарно. Здесь над южным порталом вторично изображена Оранта. Это позволяет думать, что и главную закомару здесь занимал сюжет, связанный с ее участием. Это была большая композиция «Вознесение», говорившая о славе божества. Смежную восточную закомару, как и в Димитриевском соборе (илл. 27), скульпторы украсили «Вознесением Александра Македонского», и здесь знаменовавшим апофеоз могущественной царской власти. Можно думать, что по связи убора южного портала с богоматерью его полуколонны завершались капителями с женскими масками, напоминающими фризы девичьих ликов Покрова на Нерли.
Так Георгиевский собор, предстающий ныне перед нами в виде загадочной мозаики перепутанных и покалеченных резных камней, воскресает как выдающееся творение владимирских зодчих и резчиков, проникнутое целостной историко-политической и религиозной концепцией о величии и богоизбранности северной державы Мономашичей в Русской земле, о ее праве на общерусское главенство, которого не подвергло сомнению и не ослабило даже феодальное дробление Владимирского княжества.
Этот политический курс находил поддержку и сочувствие в передовых слоях общества, в среде горожан и мелкого воинского люда. Поэтому и смысл резного убора Святославова храма перерастал границы церковно-династической идеологии. Под покровом божества находилась не только владимирская княжеская династия, но и те слои младшей разноплеменной дружины, которым в немалой степени были обязаны своим могуществом владимирские самовластцы. Изваянные на капителях собора головы воинов и серия изображений голов и погрудных фигур в килевидных и полукруглых арочках, венчавших барабан главы, с большим основанием осмысляются как образы святославовых победоносных воинов-дружинников. Под резцом владимирских каменосечцев кристаллизовалась мысль, что мир строится не только святыми, мучениками и верховными земными владыками. Круг небесного патроната расширялся на те низовые «дворянские» элементы, из среды которых вышло «Слово» и «Моление» Даниила Заточника, где мы найдем и апологию сильной княжеской власти, и идею верности ее «воинников« и горожан, и многие образы, роднящие этот щедевр владимирской литературы XII—XIII веков со скульптурной симфонией Георгиевского собора.
 В отличие от резного убранства Димитриевского собора, в скульптурном наряде Георгиевского собора решительно возобладал интерес к человеку, отодвинувший на второй план зверей и чудищ, кишевших на стенах дворцового храма Всеволода III. Их много и здесь; они исполнены в той же горельефной манере, что и фигуры святых — в этом смысле они равноправны. Они несут свою, смысловую нагрузку не только церковно-символическую, но и мирскую, светскую. Любопытно, что здесь нет сцен кровавой борьбы зверей, что их образы порой теряют устрашающий характер, чудовищность и отвлеченность, приобретая сказочный, фольклорный облик. Фигуры львов означали и бессмертие Христа и эмблему царственной силы; но лежащие львы, охраняющие западный вход в собор, спокойно дремлют, укрывшись в тени своего превращенного в фантастическое древо хвоста (илл. 125). Кентавры китоврасы на северной стене западного притвора могли напоминать сказания о сверхъестественном мудром помощнике Соломона в его грандиозном строительстве; этот аспект древнего образа удовлетворял самолюбию Святослава и самих творцов собора — мастеров; но китовраса одели в русский кафтан и шалку-венец, булава и заяц в его руках делают его похожим на княжеского ловчего; другой китоврас — в медальоне на правой лопатке южного притвора, в таком же кафтане, с топориком в руке — напоминает княжеского телохранителя. Фигуры грифонов, исполненные мастерами с большой любовью и наделенные изысканной горделивой красотой, выступают как добродетельные существа, резко отличные от чудовищных хищников романской пластики. Особенно любимо мастерами изображение сирен, превращенных в гордых и изящных полудев-полуптиц (их В.Д.Ермолин собрал на южном фасаде); в церковной символике сирин был образом праведника; в «Слове о полку Игореве» может быть родственна сирину крылатая Дева-Обида; но сирины Георгиевского собора скорее просто близкий и понятный народу сказочно-прекрасный образ, своего рода «царь-птица», образ радостного начала жизни. Так звериный мир средневековой пластики преображался под резцом мастеров князя Святослава, обретая самобытные народные черты. Но особенно это сказалось в орнаментальной основе декора.
В отличие от резного убранства Димитриевского собора, в скульптурном наряде Георгиевского собора решительно возобладал интерес к человеку, отодвинувший на второй план зверей и чудищ, кишевших на стенах дворцового храма Всеволода III. Их много и здесь; они исполнены в той же горельефной манере, что и фигуры святых — в этом смысле они равноправны. Они несут свою, смысловую нагрузку не только церковно-символическую, но и мирскую, светскую. Любопытно, что здесь нет сцен кровавой борьбы зверей, что их образы порой теряют устрашающий характер, чудовищность и отвлеченность, приобретая сказочный, фольклорный облик. Фигуры львов означали и бессмертие Христа и эмблему царственной силы; но лежащие львы, охраняющие западный вход в собор, спокойно дремлют, укрывшись в тени своего превращенного в фантастическое древо хвоста (илл. 125). Кентавры китоврасы на северной стене западного притвора могли напоминать сказания о сверхъестественном мудром помощнике Соломона в его грандиозном строительстве; этот аспект древнего образа удовлетворял самолюбию Святослава и самих творцов собора — мастеров; но китовраса одели в русский кафтан и шалку-венец, булава и заяц в его руках делают его похожим на княжеского ловчего; другой китоврас — в медальоне на правой лопатке южного притвора, в таком же кафтане, с топориком в руке — напоминает княжеского телохранителя. Фигуры грифонов, исполненные мастерами с большой любовью и наделенные изысканной горделивой красотой, выступают как добродетельные существа, резко отличные от чудовищных хищников романской пластики. Особенно любимо мастерами изображение сирен, превращенных в гордых и изящных полудев-полуптиц (их В.Д.Ермолин собрал на южном фасаде); в церковной символике сирин был образом праведника; в «Слове о полку Игореве» может быть родственна сирину крылатая Дева-Обида; но сирины Георгиевского собора скорее просто близкий и понятный народу сказочно-прекрасный образ, своего рода «царь-птица», образ радостного начала жизни. Так звериный мир средневековой пластики преображался под резцом мастеров князя Святослава, обретая самобытные народные черты. Но особенно это сказалось в орнаментальной основе декора.
Как можно видеть по разрозненным резным камням сборных культовых композиций, они развертывались на фоне подобного иконной басме коврового растительного орнамента, побеги которого проникали меж фигур святых, вплетавшихся, таким образом, в ткань причудливых трав и «древес«. Здесь, в скульптуре, развиваются те тенденции, которые мы отметили в росписи XII века на хорах церкви в Кидекше и фресках XIII века Суздальского собора, где пестрый орнамент образует основу декоративной системы, а изображения святых включены в нее. Возможно, что «знаменщиками», то есть рисовальщиками растительной орнаментики, в Юрьеве были суздальские живописцы. На стенах Георгиевского собора священные события происходят как бы в сказочном саду «вертограде» — они пронизаны его причудливыми древовидными стеблями со сходными с ирисами «кринами» и извивающимися побегами и листьями, напоминающими заросли хмеля или повилики. В этой сказочной чаще обитают добрые и сильные звери, птицы и чудища, они предстоят перед изображенными в закомарах чудесами, являются их участниками и свидетелями, они охраняют окна и входы храма. Сам принцип сочетания горельефа с тонким растительным орнаментом не был нов. Он восходил к глубоким традициям восточноевропейского прикладного искусства, в том числе славянской языческой древности. Русское ювелирное дело XII—XIII веков создавало такие шедевры, как роскошные медальоны Рязанского клада, где, вторя убору Георгиевского собора, над золотым кружевом скани поднимались в своих гнездах сияющие самоцветы. Новостью был необычайно смелый перенос этой декоративной системы в убранство христианского храма, на стены монументального здания. Растительный орнамент, столь буйно разросшийся на стенах Георгиевского собора, связывал всю его скульптуру с природой, с землей. «Древеса» соборной орнаментики прочно коренятся внизу стены, у самого цоколя, своими треугольными основаниями, по сторонам которых сидят прекрасные птицы. Декоративная система собора состояла как бы из трех ярусов: нижний представлял «землю», второй — от пояса до закомар — «земную церковь», третий — от закомарных композиций до главы — «небо». Все это, конечно, едва ли входило в заданную мастерам церковно-политическую официальную программу убранства собора. Именно, скорее всего, сами мастера разработали замысел цветущего убора его стен, явившегося не нейтральным «фоном», но полным смысла отражением народного полуязыческого мировоззрения, народного искусства, где еще цвело неувядаемое «древо жизни» — символ «матери земли», «великой богини».
Так в резном уборе Георгиевского собора не только получила ясное выражение прогрессивная историко-политическая концепция, но и резко усилились народные русские черты. Они сказались в фольклорном переосмыслении образов звериной орнаментики, в сказочной фантастике бесконечно разнообразного узорочья, которое своим обилием едва не затмило назидательные задачи, поставленные князем перед мастерами. Во всем этом, как и в изменении самой архитектуры храма, в особенности в его примечательном, свободном от хор и светлом интерьере, нельзя не видеть отражения вкусов и художественных идеалов народа, горожан, приобретавших все большее значение в жизни Руси XIII столетия.
Вопрос о мастерах, создавших Георгиевский собор — это подлинное чудо искусства, — волновал уже старых летописцев. Один из них, прочитав надпись под композицией «Распятия», что этот «крест» поставлен Святославом, вывел отсюда заключение, что сам князь и был мастером! Конечно, это догадка летописца, но Святослав, вероятно, имел большое влияние на разработку замысла своего собора. Он много повидал на своем веку — был в Новгороде Великом, воевал в Прибалтике, княжил в Переславле-Южном, совершил поход на болгар. По мнению другого летописца, знавшего легенду о привозе в XII веке белого камня во Владимир из земли болгар, автором Георгиевского собора был болгарский мастер. То, что мы знаем теперь о владимиро-суздальской архитектуре, позволяет твердо ответить на вопрос о мастерах последнего памятника этой блистательной художественной школы. Их искусство столь органично наследует и развивает традиции XII столетия, оно столь прочно связано со всей русской культурой предмонгольской поры, что сомнения в том, что в основном это были русские, главным образом владимиро-суздальские мастера, не возникает. В их руках, как и прежде, были разнообразные образцы — произведения русского и зарубежного прикладного искусства, ткани, миниатюра и др. Но теперь не их обилие создавало поразительное богатство и единство сложнейшего по замыслу резного убора храма. Секрет его идейной полноты и художественного совершенства заключался в стремительном творческом росте народных мастеров, мысль и память которых были насыщены глубоко освоенным и претворенным опытом их предшественников и современников. Расчет показывает, что над исполнением «резной одежды» собора работало две артели. Одна, числом в 12 мастеров, резала горельефные фигуры, другая — числом 18—24 мастера — исполняла растительный орнамент. При этом за единством целого не скрывались индивидуальные манеры резчиков; анализ фигурных рельефов обнаруживает руку одиннадцати мастеров. Главный из них — Бакун — счел себя вправе оставить свой автограф на северном притворе.
Георгиевский собор был лебединой песней владимиро-суздальского искусства. Через четыре года после завершения его убранства на Русь обрушились полчища монголов…
Оставить комментарий:


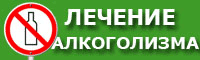
 Виртуальный Владимир
Виртуальный Владимир Область
Область Панорамы города
Панорамы города Организации
Организации Улицы и дома
Улицы и дома Добавить организацию
Добавить организацию О городе
О городе










